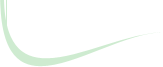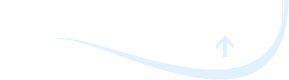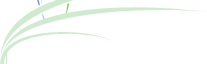Вот и опять за окном осень. Я смотрю, как кружится, облетая, листва в саду напротив. В этом всегда есть что-то печальное, как при любом прощании: уходит лето, уходит часть жизни, и листья, последний привет отгоревшего времени, летят, кружатся волнующей стаей жёлтых птиц, оседая на землю, чтобы потом, подхваченными очередным порывом ветра, вновь рвануться и понестись неизвестно куда, всё дальше и дальше от родных мест.
Октябрь сорит опавшей листвой,
а я грущу об отгоревшем лете.
К стволу берёзы прислонясь лицом,
смотрю, как лист срывает зыбкий ветер...
Правда, здесь я покривила душой — смотрю-то я из окна.
У меня вообще из окна удивительный вид: лес, горы, поля, речка Большой Кинель. В солнечные дни, когда горы становятся голубыми-голубыми, жёлтое сияние осенних деревьев на их фоне выглядит особенно живописно. Кажется, где-то у Пришвина я прочла фразу, что природа была такая дивная, что из окошка вволю можно было нагуляться. Будто о моём окне. Вот я и гуляю. Даже в дождь.
В дождь серое небо, сомкнувшись с горами, становится низкое, тяжёлое, как набрякшая в воде холщёвая простыня, и всё вокруг приобретает тёмный цвет, и асфальт автострады, убегающий к горам, блестит от дождя, как глянцевая подошва новенького ботинка.
Зимой вид из окна совсем иной. В нём чувствуется торжественность, праздничность, особенно на солнце. Когда небо чистое-чистое и голубое. Тогда заиндевелые провода на их фоне как тонкий след от реактивного самолёта, а дым из труб — словно трепещущая на ветру тончайшая фата невесты.
При восходе солнца дым кажется розоватым. Почему-то всегда приходит сравнение его с кристалликами марганцовки, брошенными в стакан с водой. Как они растворяются, расползаются эдакими тянучими волокнами...
За долгие годы я изучила мир за своим окном до мельчайших подробностей.
* * *
В последнее время я часто думаю: 25 лет — это как: много или мало? С одной стороны, грудной ребёнок за это время превращается во взрослого человека, а с другой...
Ну, а если эти годы — не просто годы, чередование зимы и лета, а срок неподвижности, постоянной борьбы с физической немощью, приступами хандры и отчаяния, искорками недолгой радости? Тогда как — много это или мало?
Четверть века, изо дня в день, я вижу одни и те же стены, один и тот же вид из окна. Двадцать лет на моём столе ворох бумаг, писем, газет. Не двигаясь, обитая только на диване, я живу. И странно — совершенно не испытываю обездоленности своей, какой-то оторванности от внешнего мира, людей. Более того — мне постоянно не хватает времени, ибо то звонит телефон, то кто-то приходит в гости. Но даже если я целый день одна, то всё равно ощущаю неукротимый бег времени. Потому что есть радио, телевизор. Наконец, есть я, а самой с собой мне никогда не бывает скучно.
Это ведь только кажется, что ты для себя неподходящий собеседник. Совсем наоборот, ибо над собой можно и подтрунить, и посмеяться. Пожалеть себя тоже, И ещё... Когда ты одна, в тишине своей комнаты, то так хорошо думается, особенно под уютный перестук старинных часов. Они шепчут себе, наговаривают потихонечку, а мысли текут и текут неспешной чередой, и дай им только волю, уведут неведомо куда.
Удивительная всё же эта штука — память. Вроде полна ты делами, заботами дня сегодняшнего. Но вдруг нечаянная мелодия, толчок мысли. И щемящей болью сдавит сердце от явившейся перед глазами картины прошлого.
Увидится вдруг далёкий вечер, с густыми, длинными тенями, с закатным солнцем над верхушками тополей. И себя увидишь: худенькую, большеглазую, с льняными косичками на плечах. Увы, так непохожую на себя сегодняшнюю...
А я рано поняла, что я не как все. Правда, долго не могла взять в толк: ну чем же моя походка так отличается от других? Прохаживалась возле зеркала и так, и эдак, заглядывала через плечо... И без конца донимала подружек:
— Ну, покажите, как я хожу...
— Да нормально ходишь, — пожимали плечами те.
А незнакомые на улице обязательно оборачивались мне вслед, и ребятня в чужих дворах дразнила, обзывая хромой, кривоногой. И это тоже вызывало во мне недоумение, ибо ноги-то у меня были стройные, красивые.
Но вот носить меня быстро они не могли. И падала я часто. На ровном месте. Неожиданно. Вдруг. Будто ударял меня кто по коленям. И потом никак не могла встать, оторвать себя от земли.
Это самое страшное, что запомнилось мне из детства — беспомощность и боль. За то, что я не как все.
В школе, на переменах, я жалась к стене коридора, боясь, что в бесшабашной свалке кто-нибудь нечаянно толкнёт меня. Я выдумывала тысячи отговорок, чтобы отказаться от коллективных походов — всем классом — на большой перемене в буфет. Потому что буфет находился в подвале, куда вела крутая каменная лестница без перил. Однажды, опустившись туда вместе со всеми, я пережила мучительные в своём отчаянии минуты. Тускло освещённая светом полой лампочки под сводчатым потолком, лестница возвышалась передо мной, уходя, подобно мехам растянутой гармошки, ступеньками под самый серый потолок, а я не знала, как мне отсюда выбраться. Руки, лишённые опоры, скользили по стене, цеплялись за её шероховатость, я теряла равновесие, пыталась подтянуть ногу, шагнуть на ступеньку... Как же страшно было мне в ту минуту, как больно...
* * *
А в 17 своих лет я узнала ещё более страшное. Что у меня неизлечимая страшная болезнь — спинальная амиатрофия, которая с каждым годом всё меньше и меньше будет оставлять мне движений, пока силы не иссякнут совсем.
К тому времени я уже два года не вставала на ноги...
Теперь-то я понимаю, какая я была тогда счастливая! Господи, ведь я была почти самостоятельной! Я могла вскарабкаться на табурет и, переставляя круговыми движениями его ножки, «ходить» по комнате. Могла добраться до книжной полки и, добыв там книгу, вернуться вновь на диван. Я могла, проснувшись ночью, включить стоявший у меня в изголовье радиоприёмник, легко дотянувшись до нужной клавиши. Могла сама включить настольную лампу. Пусть и тяжело, с великим трудом, но я сама поднималась с постели, и даже ела без особых мучений, легко поднося ложку ко рту. Могла легко причёсывать волосы, сама одеться.
И в областную клинику в тот год я поехала полная радужных надежд: я выздоровлю. Я обязательно начну ходить — ведь мне ещё так мало лет и у меня ещё всё впереди.
Я и школьные учебники взяла с собой, чтобы не терять времени зря и упрямо открывала их каждый день, пытаясь самостоятельно разобраться в параграфах, решить задачи по алгебре. Мне так не хотелось оставаться невеждой.
Почему я в тот день решилась на разговор, на свой отчаянный вопрос?
Может потому, что мне очень нравилась моя докторша? Ей, наверное, тогда было столько же лет, как мне теперь, а может быть и меньше. Белый халатик, шапочка, неизменный фонендоскоп на шее, молоточек, выглядывающий из кармашка халатика. Она всегда так порывисто входила в палату, что казалось, врывается ветерок. Спрашивала, улыбалась, постукивала молоточком наши коленки и локти. И женщины млели под её взглядом, а за глаза называли Зиночкой. Я не млела, но тоже радовалась каждой встрече с доктором. И с надеждой всматривалась в её лицо, ища в нём подтверждение моим надеждам.
Но не только это толкнуло меня на вопрос. Было нечто другое.
В нашей палате умирала Светлана, женщина 25 лет. От злокачественной опухоли головного мозга.
То, что она умирала, понимала даже я.
Худенькая, наголо стриженная после ничего не давшей операции и оттого очень похожая на подростка, с неподвижным, как маска, лицом, она целыми днями молча лежала в своём углу, никак не обнаруживая своего присутствия в палате, и оживала только при виде человека в белом халате.
— Подойдите ко мне, — подавала тогда слабенький свой голос. Спрашивала Светлана всегда об одном:
— Я выздоровею, правда?
Отвечали ей тоже всегда одинаково, все. Даже забредшие в палату за посудой работники пищеблока:
— Обязательно, Светочка, обязательно.
Может быть, мне тогда тоже захотелось услышать подтверждение своим надеждам, тем более что я была просто убеждена в своём излечении.
— А я ведь буду ходить, да?
Я спросила об этом во время обхода, спросила шутливо, вроде и сама понимая всю нелепость своего вопроса — какая ерунда, конечно же буду ходить, куда денусь?..
Народ в нашей большой палате тихонечко жужжал, переговаривался друг с другом. В высокое окно рвалось щедрое мартовское солнце, в лучах которого мельтешили, суетясь, как мошкара возле огня, пылинки. Лучи солнца слепили и мне глаза, я щурилась, заслоняясь ладонью. А Зиночка, Зинаида Александровна, вдруг посмотрела на меня как-то растерянно:
— Нет, не будешь, — сказала с поразившей меня медлительностью.
И... обрушилась тишина. В палате мгновенно все вдруг замолчали. Только солнце лилось в окно своими лучами, слепило глаза.
У меня всё же хватило сил удержать на лице дурацкую свою улыбочку:
— Ну и ладно, — тряхнула я чёлкой. — Ну и пусть...
...Расплакалась я ночью. Лежала, глядя в чёрное окно, в углу которого, словно осколок от ёлочной игрушки, блестела звёздочка, и молча глотала слёзы, боясь только одного: что меня услышат соседи по палате.
А перед глазами всё всплывало и всплывало утро — мгновенная тишина палаты, зардевшееся лицо докторши, какой-то её растерянный, ускользающий взгляд...
Это о ней, о этой ночи написались у меня потом строчки:
Не скрою — ждала, терпеливо и трудно,
и верила — час этот должен прийти...
Но вышло иначе, и горько и глухо
мне приговор мой безутешный прочли.
Качалась луна в черно-синем окошке,
больничный покой нарушал чей-то вздох.
Но сон всё не шёл, и как будто нарочно
манил тёплый вечер далёкой звездой.
Мне было и страшно, и больно, и горько —
такое нельзя пожелать и врагу.
Но сердце кричало: «Неправда, довольно,
я выстою, выживу, я — побегу».
Наверное, в этом и было спасенье...
Уж сколько минуло с той ночи ночей.
Но верю по-прежнему я в исцеленье
и жду вопреки приговору врачей...
Но это потом, а тогда...
— Нет, не ладно, не пусть, — тихо сказала докторша. И вдруг заторопилась к выходу, почти побежала. Более обстоятельный разговор у нас с ней произошёл через несколько дней, вечером, почти в пустой палате — только Светлана лежала в углу, думая бесконечную свою думу. За стеной, в коридоре, галдели люди: ходили, смеялись, кто-то громко разговаривал по телефону. На моей подушке пищали снятые радионаушники. А мы разговаривали. О том, что мне нужно думать о своём будущем, не обольщаться пустыми надеждами, ибо здоровья не будет — медицина бессильна. Мне надо готовиться к самому страшному: когда ни голову оторвать от подушки, ни глаз открыть не смогу.
Свет в палате мы не включали, довольствуясь тем немногим, что проникало из коридора через неплотно прикрытую дверь. Но так было и лучше, свободнее.
— Тебе нужно овладеть иностранными языками. Или научиться часовому делу. Тоже неплохо можно зарабатывать.
— Зачем, всё равно ходить ведь не буду...
— Но жить-то надо, жизнь ведь завтра не кончается...
Я видела, что докторшу недавно сорвавшееся признание мучает, что она и сама не знает, так ли сделала, открыв мне правду...
Верила ли она в мои силы? Не знаю. Но до сих пор помню её взгляд при прощании, её тонкую фигурку на больничном студеном крыльце. Она стояла на мартовском ветру, в спех наброшенной шубейке поверх белого халата и смотрела, смотрела вслед увозившей меня машине. О чём думала она в эту минуту? Может, томилась мыслью — выдержу ли я этот груз?
ВЫДЕРЖУ?
Докторша-то моя знала, что у меня впереди. Предвидела...
А я пойму всё много позднее. Через годы и годы. Наскитавшись по больницам, санаториям, натерпевшись всяких обид и унижений, выкарабкиваясь из пропасти хандры и отчаяния. Наконец, открыв для себя плавное — я человек без судьбы.
Я многое потом, с годами, пойму, на многое научусь смотреть другими глазами. Как истину впитаю в себя и однажды услышанную мудрую фразу: «Господь не даёт креста не по силам», найдя в ней и своё утешение, и свою силу. Надежду на день грядущий.
Значит, всё так и нужно, значит, всё далеко не случайно. И несу я страданий столько, сколько могу выдержать. Не больше и не меньше. Потому и принимать нужно всё спокойно, с великим терпением.
Принимаю, всё принимаю,
никого не виня, не коря.
Просто выпала жизнь мне такая,
и не три, и не две, а одна.
Просто выпала, кем-то загаданная...
А зачем? Почему? Если б знать...
Поживу вот и окна распахиваю,
и дверей не стремлюсь закрывать...
Кстати, а я, наверное, предчувствовала свою судьбу, свою долю. Потому что совершенно не желала рождаться, выходить на свет Божий. И маму, измученную многодневными схватками (суток трое я изводила её), пришлось везти поближе к врачам, в роддом, в райцентр. Как я теперь шучу — я упиралась и руками, и ногами, ибо знала, что ничего хорошего меня здесь не ждёт.
Хотя дело, конечно, было вовсе не во мне, не в моём желании или нежелании. Просто маме было уже сорок лет, и беременность пятым ребёнком ей, надорванной тяжким крестьянским трудом, далась нелегко.
Ей и врачи предсказывали трудные роды, но отец решил — ребёнку быть. И я появилась на свет.
... Отец, папка, добрый мой, бедный папка. «Великий труженик», — как говорили о нём люди, когда он умер.
Всякий раз, когда я думаю о нём, о его трудной жизни, не отпускает меня горечь от мысли, что не было у папы в жизни ничего, кроме работы. На износ. Начиная с раннего детства в степной Саратовской губернии.
Полной мерой хлебнёт он, тринадцатилетний подросток, горя и тогда, когда всю его семью — мать-вдову с девятью ребятишками на руках, мал мала меньше, вышлют из деревни как кулачку, несмотря даже на то, что муж и старший сын её сложат свои честные головы как раз за эти самые дутые идеалы революции. У неё даже заберут все эти вроде бы охранные документы, пообещав разобраться. Но так и не разберутся, объявив кулачкой. Хотя всё богатство семьи состояло лишь в крепко налаженном великим трудом крестьянском хозяйстве да мозолистых руках, не боявшихся никакой работы и уже одним этим вызывавших зависть у завзятых лодырей, всю свою жизнь пролежавших на печи и дорвавшихся, наконец, до власти после октябрьского переворота. Вернее, до права загребущей рукой своей залезать в чужие карманы. Подонки и пьяницы, презираемые всей деревней, они, конечно, показали, на что были способны.
До конца дней осталась у отца в памяти та страшная картина разгула, когда, надравшись самогона, эти так называемые новые «хозяева» жизни, куражась в упоении своей вседозволенности, носились по деревне на чужих, отобранных лошадях, загоняя их до смерти. Любимец и кормилец всей семьи гнедой жеребец Воронок упадёт на глазах плачущих детей, и последнее измученное его ржание, полные недоумения и страшной тоски таза — глаза животного, этой бессловесной Божьей твари — будет, наверное, первым проклятьем того пресловутого счастья, ради которого прольётся потом море слёз и крови, ради которого будут загублены миллионы ни в чём не повинных людей. Их будут гноить в ГУЛагах, выбрасывать вместе с детьми в голые степи, гробить на подёнщине колхозного крепостного ига, выбивать в казематах Лубянки всё человеческое, всё лучшее в них, чем испокон века славилась Русь, на чём держалась.
Нет, слава Богу, страшный ГУЛаг, Лубянка обойдут нашу семью, но всю ту горькую долю, на которую обречёт всех честных, порядочных людей семнадцатый год, отцу доведётся испить до конца.
Сын так называемой кулачки, а после женитьбы на моей матери и зять кулака (ибо и дед мой по маме, неоднократно получавший первые призы на всех сельскохозяйственных выставках Самарской губернии за свои большие урожаи, был прекрасный хозяин-земледелец, труженик, а, следовательно, по закону новой жизни, и новых хозяев враг, у которого тоже всё отберут, всё нажитое за долгие годы великим трудом), отец познает и злобу дурных людей, и их лихоимство, и зависть. Что навсегда отобьёт у него, как у умного и порядочного человека, желание иметь с ними что-нибудь общее, хотя бы тот же партийный билет.
Отец проживёт трудную, но честную жизнь. Будет у него и фронт с тяжёлым ранением под Москвой, в декабре 41-го, и болота под Старой Русой... И главная солдатская медаль «За Отвагу», которую он, кулацкий сын и зять, получит за то, что привезёт, несмотря на адскую бомбёжку, на передовую снаряды. Хотя на обратном пути его старенький «Студебеккер» всё же накроет взрывной волной, и отец чудом останется жив. (Может быть затем, чтобы родилась я?).
И всю жизнь он будет трудиться. Как вол. Чтобы свести концы с концами, чтобы вырастить, поставить на ноги детей, дать всем образование, которое не смог получить сам. Отец может гордиться — мечта его сбылась, даже все его внуки с высшим образованием, все честные, трудолюбивые люди.
Горько, но за всю жизнь отец не износил ни одного выходного костюма. Единственный так и провисел все годы в шкафу, кстати, сделанном его руками, как и вся мебель в доме.
Вечно в работе, вечно в делах — таким навсегда остался он в моей памяти. Да ещё засыпающим от усталости чуть ли не за столом.
В 82-м, когда он умрёт — скоропостижно, схватившись за больное, израненное инфарктами (которые он перенёс, оказывается, на ногах) сердце, и эта страшная весть разнесётся по всей округе, я услышу очень много добрых слов от людей об отце. Донесётся до меня людская молва и слова его, сказанные незадолго до смерти: «Всё ничего, да Томку жалко...»
И такой острой болью пронзят моё сердце эти слова, такой кровоточащей раной: «Папка, родной мой папка!..»
Он и маме приснится вскоре после смерти — печальный, усталый.
— Да как же ты нас покинул, на кого бросил? — спросит там, во сне, она его. А отец ответит, вздыхая и тоскуя:
— Да ты-то ладно, о Томке душа болит.
Мама наутро расскажет мне этот сон — и радостный, оттого, что вновь увидала, вновь поговорила, будто с живым, будто никогда не умиравшим, и горький. Потому, что это был всё-таки сон.
И вновь померкнет у меня в глазах свет, и почувствую опять остро свою осиротелость. И больно мне станет от мысли, что и там, в вечном покое, томится и мается обо мне добрая душа его, понимая, что ни от кого теперь я не увижу такой заботы, тревоги обо мне, которыми все эти годы он окружал меня.
Это он, мой папка, чуть ли не до последнего часа таскал меня на улицу, на балкон, пересаживая с дивана на коляску и обратно. Это он был моим неизменным курьером в редакцию, где особенно нравилось ему получать мои гонорары. И книги из библиотеки ворохами тоже мне носил он — мой папа.
Малограмотный, успевший закончить лишь 3 класса, папа, конечно, понимал, что всё это значит для меня. И радовался, что, несмотря ни на что, я сумела всё же найти себе дело в жизни и, не заканчивая университетов, обучилась нелёгкому своему ремеслу — журналистике.
* * *
Я помню очень многое: и первое своё выступление по Всесоюзному радио, в передаче для старшеклассников «Ровесники» 31 декабря 1969 года. И первые публикации в газетах. В том же 69-м. Помню и свои мучительные корпения над рукописями, отчаяние и беспомощность перед ускользающим словом... И радостно-упоительное состояние, когда строчки буквально срываются с кончика карандаша... Помню многое, а вот с чего всё началось, как пришло ко мне это, совершенно исчезло из памяти.
И сердце потянулось вдруг к перу,
и строчки побежали по бумаге...
Уже в ту зиму, когда, вернувшись с приговором из больницы, я заканчивала на дому десятый класс, среди моих тетрадок по математике, химии, физике появились и другие, понятные только мне одной: с кусками диалогов, рифмованными строчками.
Днями я занималась, зубрила про материю, которая первична, про тангенсы и котангенсы, а по ночам, устроив тетрадку на груди, писала. В темноте. Наползающими друг на друга строчками. Дотянуться до стоящей рядом на столе лампы мне с каждым разом становилось всё труднее и труднее.
Сочиняю стихи ночами,
строчку к строчке леплю в тиши
и дождаться рассвета не чаю —
вся во власти своей души.
Ветер в окна стучит чуть слышно,
в небе светится лик луны.
Карандаш мой скребётся мышью,
торопливо чертит листы...
Иногда утром я даже не могла разобрать, что это я там накорябала, продиралась сквозь строчки, как сквозь джунгли, выуживая с бумаги то одно, то другое слово. А то и рвала в отчаянии свои черновики — всё не то, всё не так, всё плохо.
Верила ли я в свои силы? Надеялась ли на что?
Я просто хотела. Работы. Дела. Судьбы. Хотела хотя бы таким образом победить свою болезнь, прорваться сквозь стены дома. К миру. Людям.
Боже мой, с какой же жадностью я поглощала в газетах и журналах статьи о людях трудной судьбы, которые, подобно мне находясь в четырёх стенах дома, собственной квартиры, в болезнях и болях, искали и находили себя. Читала и... грустила. Потому что все эти люди до произошедшей с ними беды уже что-то умели, уже кем-то были, а что умела и могла я, ещё почти ребёнок, едва окончившая школу? Да и ту на дому, почти самостоятельно.
И, пожалуй, если бы кто сказал мне тогда, что в декабре 1984 года, то есть спустя тринадцать лет, я возьму в руки маленькую красную книжечку с золотым теснением на корочке «Союз журналистов СССР», в которой чёрным по белому будет написано моё имя — я не только не поверила бы, а даже расплакалась от обиды: какой Союз, какой журналист?!
И даже теперь, когда слышу иногда в радиоэфире: «Начинаем передачу «Взрослым о детях». Послушайте рассказ журналистки Тамары Муруновой...» — зябко повожу плечами: журналистка, Бог ты мой!
Хотя, какая разница, как это называется, да и в словах ли дело? Главное, все эти годы рядом со мною всегда были перо, бумага — моя боль и радость. Моя жизнь.
Стынет на столе лист со стихами.
Словно с совестью своей наедине,
я пред ним с бессонными глазами...
Конечно, теперь, по прошествии лет, когда многое образовалось, многое получилось из того, о чём мечталось тогда, в юности, о чём представлялось, как о почти несбыточном... Да, теперь об этом говорить легко. Что вот что-то всё-таки смогла, сумела. Дело своё нашла на земле, любимое занятие. Оказалась замеченной людьми, читателями. Сумела как-то обустроить свой быт, что тоже при полной моей беспомощности, зависимости во всем, не так уж и мало.
Хотя, конечно, тому, кто не хлебнул этой горькой чаши, вряд ли всё это покажется таким уж значимым, он вряд ли оценит хотя бы тот же подъёмник, при помощи которого меня теперь сажают на коляску, а с коляски на диван. Или ту же коляску с электроприводом, при помощи которой, нажимая своими слабыми руками на рычажок, я могу теперь передвигаться по квартире. Саму мою квартиру, где сделаны широкие дверные проёмы.
И всё это не упало на меня с неба, как манна небесная, за всем стоит труд, терпение моё, но главное — великая моя любовь к жизни, настоящая борьба за право жить. Я хотела жить всегда, даже в страшные минуты отчаянья, когда казалось, что сердце вот-вот разорвётся от боли.
Я выстояла даже тогда, когда на меня рухнуло самое страшное — смерть моих родителей, вначале отца, потом мамы.
Смерть — это страшно всегда, в любом возрасте, при любом здоровье, но когда ты встречаешь её в таком разгромленном состоянии...
...Мама умирала у меня на глазах, умирала тяжело, мучительно, страдая от страшных болей, а ещё больше оттого, что оставляет меня одну, больную и беспомощную
— Только когда усну, забуду, — говорила она всегда, когда речь заходила обо мне. И о том времени, когда придёт её пора уходить. — Только когда усну...
А я ночами ловила её прерывистое дыхание, и всякий раз сердце моё срывалось в пустоту, когда мне казалось, что всё, мама не дышит.
А дышать она перестала рано утром 13 января 1994 года.
На моих глазах.
Я смотрела на мамину агонию, смотрела, как она хватает последние глотки воздуха... И ничем не могла ей помочь — защитить, удержать...
Целый месяц я боролась за её жизнь, доставала все необходимые лекарства, рвалась и изводилась на своём диване, прикованная к нему неведомой силой... От невозможности чем-то помочь маме: подать воды, лекарства, подложить под голову поудобнее подушку.
Даже в последние её минуты на земле я не могла упасть ей на грудь, обхватить руками родное тело, закричать, чтоб не уходила, не оставляла меня одну.
Меня и к гробу мамы смогли подвезти только вечером и, придерживая мои руки, помогли мне дотянуться до неё, прикоснуться напоследок к ее застывающему уже телу.
В детстве я никак не могла поверить, что моя мама когда-нибудь умрёт. Что она вообще может умереть. Что когда-то её отнесут и закопают в землю...
Сколько я себя помнила, мама всегда была рядом. И даже болея, даже находясь чуть ли не при смерти, рвалась ко мне. Чтобы помочь.
Я и сейчас с неизбывной болью вспоминаю горькие майские дни 1985 года, когда у мамы случился инфаркт.
Врачи уговаривали ее ложиться в больницу, а она металась от боли и только твердила: «А Томка, как же Томка?». Ей казалось таким страшным оставить меня одну на моём стареньком диване, в пустой квартире, где некому подать мне еду, повернуть ночью на другой бок. И хотя я убеждала маму, что люди не бросят, помогут, что я как-нибудь проживу — всё было бесполезно, она твердила одно: не поеду.
И тогда я тоже поехала с ней в больницу, и нас положили в одну палату, и я целую неделю, как собачонка, сторожила каждое мамино движение. Ухода в больнице совсем не было, на ночь меня укладывали, а утром поднимали соседки по палате. Панцирная сетка у кровати провисала до пола, я сидела вся скукоженная (слава Богу, что догадалась из дома захватить подушку, и она, подложенная под спину, хоть как-то придерживала меня). Ночи тоже были для меня ужасными, потому что я не могла изменить положения в постели, и моё тело, заваленное в кровать, как в гамак, к утру становилось деревянным, затекало настолько, что я едва сдерживала крик.
Мне было там невыносимо тяжело, и мама понимала это, и рвалась ко мне, чтобы в свою очередь помочь. В конце концов мне пришлось всё же уехать домой, под пригляд и уход моей замечательной соседки. Но думаю, что маму я в тот раз всё же спасла, потому что, еле шевелясь, ничего не прося для себя от грубых нянечек, я требовала маме и ухода, и лечения, и сторожила каждое её движение, не позволяя ей нарушать предписанный строгий постельный режим. Тогда, в 1985-м году, мы одолели с ней беду, преодолели последовавшую потом послеинфарктную депрессию, о которой я и теперь не могу вспоминать без боли — на какой-то период мама как будто выпала из жизни, и старшей в доме пришлось стать мне.
Я так хотела верить, что мы победим и на этот раз. Твердила маме, что она поправится, а она, всё прекрасно понимая, делала вид, что тоже не сомневается в этом. И как всегда до последнего рвалась на помощь ко мне.
Да, мама всегда была рядом. И вдруг мамы не стало. И вновь померк свет в моих глазах. Как двенадцать лет назад...
КАК ЖИТЬ?
Но тогда, в страшном 82-м, рядом была мама. Пусть уже старенькая, пусть больная...
.. Она вообще рано начала маяться ногами. «Змеиный яд», «Пчелиный», «Тигровая мазь», денатураты — мне кажется, чуть ли не с пелёнок я видала эти тюбики, пузырьки у нас дома. Все они противно пахли, и всеми этими лекарствами натиралась мама. Болела поясница, болели ноги. Слово «радикулит» было таким же привычным для меня, как «насморк», как «ангина».
Сказывалась тяжёлая жизнь, голодная юность, война. В войну мама осталась одна, с тремя меленькими ребятишками и стариками родителями, сутки дежурила на телефоне, вторые сутки ломалась на своём крестьянском хозяйстве, была, как поется в частушке, и баба, и мужик, да заодно и бык. Ибо приходилось на себе волочить и дрова, и сено корове, и картошку-кормилицу с огорода, вёдрами тягать воду из колодца.
Этот пресловутый радикулит в середине семидесятых обернулся очень тяжёлым заболеванием позвоночника, и встал вопрос о немедленной операции. Врачи будут предлагать, но не гарантировать, что всё будет хорошо или хотя бы не хуже... Мама колебалась, сомневалась. Но когда выяснилось, что для благополучного исхода непременно нужно выполнить одно условие — года два, три не поднимать ничего тяжёлого, а, следовательно, избавиться на такое же время и от меня — главного источника всех тяжестей, то есть куда-то меня пристроить, вопрос об операции отпал сам собой.
— Нет, нет, нет, — решительно заявила мама.
И никакие мои уговоры, заверения, что эти два-три года пройдут быстро, и я где-нибудь их переживу, перетерплю, хотя бы в том же доме инвалидов, результата не дали. Мама наотрез отказалась оперироваться.
— Нет, нет, никуда я тебя не отдам. Настрадаешься ещё, натерпишься, когда меня не станет. Уж как Бог даст, видимо...
Бог и правда пожалел, нашлось кое-какое лекарство, которое помогало глушить самые адские боли, самые невыносимые. Но двадцать последних лет мама могла ходить только по дому, и то тяжело, опираясь о стены, мебель, свою самодельную, сделанную ещё папой тросточку.
Мне и теперь тяжело вспоминать все эти наши страдания, наши подчас полные слёз дни, когда раздавленная болью мама утром не могла поднять меня с постели, а вечером уложить. Когда у нас дома не оказывалось хлеба. Не от хорошей жизни, конечно, приходилось обращаться к посторонним людям.
Года с 85-го в нашем доме появилось слово «приходящая няня». То есть человек, который утром приходил и сажал меня в постели, а вечером приходил и укладывал в постель.
Помню, когда в девяностых годах я как журналист и просто как человек, не сумевший промолчать, вступила в некую словесную (а в какую ещё я, беспомощный человек, могла вступить?) борьбу с местными дедами-активистами, неправильно истолковавшими наше общее дело, дело инвалидной организации, где я, кстати, была секретарём правления, меня больше всего поразил именно упрёк об этой приходящей няне. В письмах в горком партии, в редакцию газет эти уважающие себя люди с какой-то издёвкой писали, что я такая и разэдакая особа, что за мной даже закреплена от собеса персональная няня. Читая тогда эти недобрые строки, я думала: а понимают ли они сами, в чём меня упрекают, и знают ли они, что это такое — нанятый человек? А значит это очень много. Что тебе приходится подниматься утром не тогда, когда тебе хочется вставать, а когда это удобно няне. И если ей вдруг потребуется по каким-то своим делам отлучиться куда-то чуть свет, то и тебе тоже придётся вставать чуть свет. Тебя посадят даже часов в пять утра, и ты будешь сидеть. И укладывать придут не тогда, когда тебе хочется. Одной из моих нянь удобно было приходить в девять часов вечера, когда июньское солнце только-только начинало склоняться к закату, когда совсем-совсем ещё не хотелось думать о каком-то сне.
Читая те бессовестные строки, я тогда думала — а смогли бы эти люди понять мою страстную и несбыточную мечту: проснуться ночью и, встав, пусть даже с трудом, пусть опираясь на палочку, костыли, просто мебель или стену, добраться до письменного стола, включить настольную лампу и, пододвинув недописанный листок бумаги, где ещё свежи мои строки, заспешить пером за летящими мыслями... Ночью всегда так хорошо пишется...
Моим невысказанным строчкам
судьба обидная молчать.
Всё потому, что прошлой ночью
перо их не смогло поймать.
У меня далеко не случайно родилось это четверостишие. Это даже и не стихи, скорее моё горестное сетование.
Я вообще считаю, что тяжёлая моя болезнь не только принесла мне много боли физической и душевной, она здорово осложнила и мою работу как газетчика, как журналиста. Много моих задумок не сбылось по одной причине — для этого нужны были ноги. Загорюсь идеей, темой, но... Диван, четыре стены, и даже мой вечный помощник-телефон бессильны. Обидно, конечно, все: и когда ночью не можешь повернуться, чтобы устроить на груди блокнот и записать вдруг зазвучавшие в тебе строки, и когда нет возможности добраться до заинтересовавшей тебя темы, изучить её до мельчайших подробностей. Выручало, конечно, воображение, фантазия, но... Но порой этого оказывалось недостаточно.
А ещё я по гороскопу Дева. Знак по себе не очень простой, во многом противоречивый. Что-то мне нравится в нём. Например то, что люди, рождённые под этим знаком, отличаются большой аккуратностью, ответственностью за любое порученное им дело. Что они все крепко стоят на ногах, что они реалисты и мир воспринимают таким, каков он есть. Не нравилось мне лишь одно. Что Девы довольно стеснительные в жизни, очень комплектующие, предпочитающие держаться скорее в тени, чем выставлять себя напоказ, робеющие перед наглостью и хамством. И главное — не умеющие за себя постоять.
Вообще-то, мне и сегодня трудно решиться, допустим, на телефонный звонок какому-нибудь официальному лицу, запросто набрать его номер и изложить свою просьбу, и уж тем более попросить интервью. Это случается только тогда, когда я понимаю: всё, звонить надо. Но и уже решившись, уже созрев, я ещё долго маюсь у телефона, прокручиваю все слова, репетирую и репетирую, заранее обмирая от своего поступка и смелости. Ничего не поделаешь — Дева есть Дева, в самом типичном её проявлении.
Ох, как же тяжело преодолевала я свою стеснительность! Я приглашала к себе людей, героев своих будущих очерков, и умирала перед каждой встречей. Я боялась показаться болезненной, недостаточно эрудированной, я боялась чего-то недопонять или не запомнить. Можно смело сказать, что я «шла» на каждую встречу как на бой. С самой собой в первую очередь. Со своей закомплексованностью, стеснительностью. Был и страх — а справлюсь ли?
Да и каждый очерк писался со смятением в душе: а вдруг невзначай чем-то обижу человека, вдруг не оправдаю его доверия?
Наверное, это тоже смело можно назвать сопротивлением встречному ветру, где каждый шаг — что выигранный бой. За право жить, как все.
Я упорно двигалась к главной своей цели: стать полезной людям, путь даже и в таком качестве, хотя бы с помощью своего пера. И теперь, оглядываясь на прошлое, могу честно признаться — мои статьи и очерки, рассказы об интересных и хороших людях не испортили лица газеты, наоборот — украсили. Мне отдавались целые полосы, целые страницы, и я знала: люди читают их с интересом. Знаю это и по многочисленным откликам, письмам и звонкам. Именно в те годы я обрела много добрых своих знакомых, приятелей.
В праздники в моей комнате часто раздавались телефонные звонки, и незнакомый голос просто говорил:
— С праздником Вас, Тамара. Поздравляю Вас и очень хочу Вам пожелать….
И тогда, растроганная целым потоком добрых слов, я спрашивала: «А кто Вы? Что-то я не узнаю», — получала в ответ: «Да просто Ваш читатель, Ваш искренний поклонник».
А однажды я даже получила очень забавное письмо. Незнакомая женщина писала о том, что ей очень нравится читать мои статьи и рассказы, особенно на житейскую тематику. Что ей очень хочется со мной познакомиться, поговорить. Ей очень хотелось бы ко мне прийти, но она боится, что может мне помешать, что вдруг мне не захочется этого знакомства, этой встречи. И потому она предлагает такой вариант: она сообщает мне сюжет одной житейской истории. Если этот сюжетик в виде зарисовочки или рассказа появится в газете, то это станет своеобразным знаком того, что я готова к общению, согласна на встречу.
Сюжетик и впрямь был незамысловат — типичная история, которая случается сплошь и рядом между родителями и их взрослыми детьми. Но я всё же написала небольшую зарисовочку. И таким образом в мой дом вошёл ещё один добрый и интересный человек — Александра Никитична Еланская, с которой мы дружим до сих пор, хотя теперь только по телефону, потому что стала моя Никитична старенькая-престаренькая.
* * *
Наверное, когда-нибудь я напишу все-таки книгу о всех своих друзьях, добрых знакомых, соседях, просто хороших людях, которые встречались мне на моём жизненном пути. Кто помогал мне, поддерживал в трудные минуты. Без которых многое в моей жизни просто не получилось бы. Даже при всей целеустремлённости моего характера, жажде жизни, моём упорстве и терпении. Потому что целеустремлённость целеустремлённостью, но если бы не было в людях отзывчивости, понимания...
Вот не прими близко к сердцу мою беду, боль тогда, в 1976-м году, эти добрые люди, не отзовись на мою просьбу, и кто знает, как бы сложилась моя судьба, дальнейшая моя жизнь.
...Он был очень трудным, тот теперь далёкий 1976-й год. Все ещё висел вопрос об операции маме, бурно прогрессировало моё заболевание, отнимая на глазах силы. И вдруг случилось самое страшное — парализовало папу.
В мгновение ока он из сильного, крепкого мужчины превратился в беспомощного старика. И оказалось, что самая сильная в семье я.
Нужно было что-то делать. Нужно было выбираться из посёлка, где не было врачей, не было элементарных удобств в доме. Я поняла, что единственное спасение — это благоустроенная квартира. Чтобы не беспокоить соседей со всякими вёдрами, не быть никому в тягость.
И я кинулась в бой за эту самую квартиру.
И я его выиграла. Мою боль услышали, отозвались. Моя мечта, казавшаяся почти несбыточной, почти нереальной, уже через полгода обрела свою реальную конкретику: папе, как участнику войны, как нефтянику с тридцатилетним стажем, выделили в Похвистневе 2-комнатную квартиру в новом, только что построенном доме.
И я стала горожанкой, я стала жить в Похвистневе. В городе, без которого теперь просто не представляю своего существования Это мой дом. Моя вторая родина.
Мне помогли и тогда, когда я дозрела до ещё одного понимания — мне необходимы вылазки из дома: на природу, к людям — в мир, в конце концов, иначе силы мои источатся быстрее, чем сама жизнь.
Так в мои дни, в моё существование вошёл Серноводск — небольшой курортный посёлок в наших заволжских степях, а вернее санаторий, расположенный там.
Санаторий для людей с повреждениями позвоночника, точнее, спинного мозга. Травмами, заболеваниями.
Боже мой! Как же я прорывалась туда, как боролась!..
Вначале был категорический запрет медиков: ни-ни, якобы, строго противопоказано.
— Но что вы теряете? — недоумевала я. — Если умру, то умру ведь я, не вы. А если будет хуже, думаете, то и без того худо уже — «хужей» и некуда.
И ещё недоумевала:
— А то, что я сижу, и никому до меня нет дела — это лучше, что ли?
Но медики были упрямы — нет!
Но упрямой была и я. И я победила. И выбила у них эту вожделенную справку — разрешающую, позволяющую…
Теперь, когда я довольно много встречаю там, в санатории, людей со своим заболеванием, которые, если попадают туда в не слишком запушенном состоянии, какой попала в первый раз я, получают от лечения некоторое даже облегчение, улучшение; теперь, когда моё заболевание даже рекомендовано этими самыми серноводскими водами лечить, я всегда думаю о том, что как же всё-таки хорошо, что тогда, в начале восьмидесятых, я всё же победила, переупрямила своих докторов. И поехала-таки в Серноводск, и езжу на протяжении всех последующих лет.
И не потому, что выздоровела, что поправилась — нет, всё это оказалось уже слишком запущенным, необратимым. Просто Серноводск вошёл в мою жизнь как нечто очень светлое, живительное. Он внёс в мою жизнь новые краски, он подарил мне много друзей, интересные встречи, яркие события. Наконец, подарил мне понимание того, что я не просто человек, но и ещё довольно привлекательная и обаятельная девушка, женщина, в которую, оказывается, можно даже и влюбиться.
Хотя, конечно, и на здоровье тоже, наверное, повлияло. Один лишь факт, что я вопреки приговору врачей, предрекавших мне смерть к тридцати годам, не только продолжаю жить, но даже, опять-таки вопреки тому же приговору, ещё и находиться в вертикальном положении (не слегла) — уже это говорит о правильности моего поступка. Мне жаль лишь одного: что я эту борьбу не начала раньше. Когда ещё были кое-какие силы, движения. Молодость.
Но, впрочем, слава Богу, что случилось хотя бы то, что случилось, и я никогда не перестану поминать добрым словом всех людей, без помощи которых, как я уже сказала выше, всё могло бы в моей жизни сложиться по-другому. И рассказы о которых, я надеюсь, будут ещё и в следующих моих повествованиях. Ведь жизнь продолжается, и это самое главное.
И главное, что каждое своё утро я встречаю с надеждой. Надежду я вкладываю и в эти свои последние строки.
Я заканчиваю свой рассказ о себе не потому, что мне нечего больше поведать людям, что уже всё рассказала. Нет, рассказана лишь маленькая толика, крошечная частичка из того, что пришлось пережить. Но я и не ставила такой цели — рассказать свою жизнь. Я хотела просто на своём примере человека без судьбы, без особого таланта, нулевых стартовых позиций, помочь, может быть, своему сотоварищу по несчастью или просто отчаявшемуся, уставшему от жизни человеку, тем более молодому, поверить в себя, свои силы. Помочь устоять ему под порывами встречного ветра. И не только устоять, но идти вперёд — наперекор его порывам, наперекор ему. Он обязательно будет толкать назад, возможно даже сбивать с ног — такие уж у него особенности, у этого встречного ветра. Но придётся подниматься и, закусив от боли и отчаяния губы, сцепив зубы, опять продолжать путь вперёд. Путь вперёд — это всегда путь против встречного ветра. Таков уж закон жизни, нашей собственной судьбы. Если, конечно, мы хотим, чтобы она состоялась.
...А за окном летит и летит листва... Жёлтая, оранжевая.
Осень, ещё одна осень в моей жизни.
Всякий раз в сентябре я становлюсь на год старше. Где-то это всегда печалит. Уходят дни, уходит часть твоей жизни, уходит часть тебя. Того, что успелось или не успелось.
Каждый год в день своего рождения я подвожу итоги. И, в общем-то, мне очень хочется верить, что наше пребывание на этом свете, в этом мире, всё-таки не зря. Хотя бы даже потому, что так захотели наши родители. Так захотел Бог. А Он-то, конечно, знает, для чего и зачем всё это, и почему в жизни получается именно так, а не иначе. Ибо не даёт Господь креста не по силам нашим...